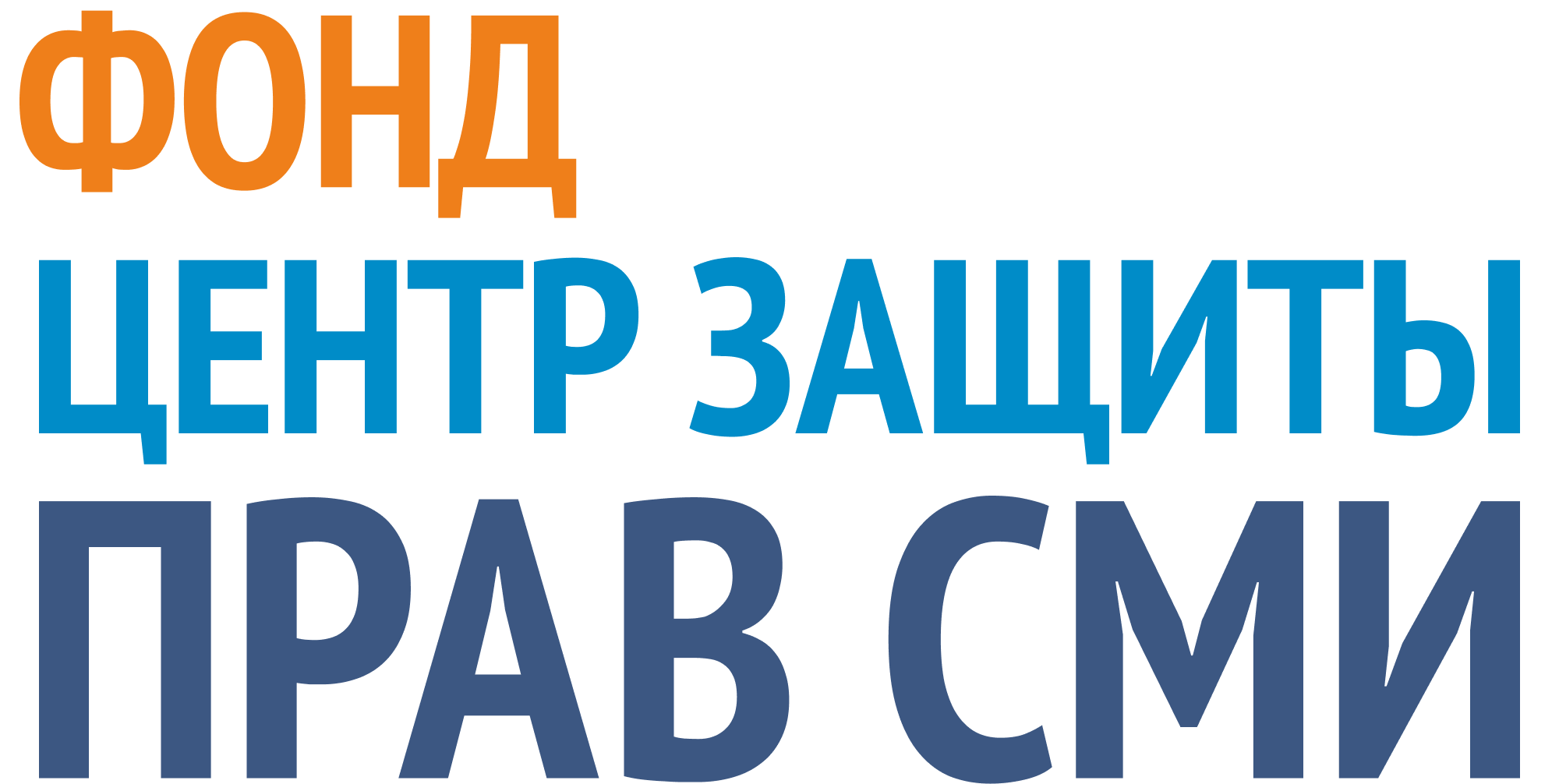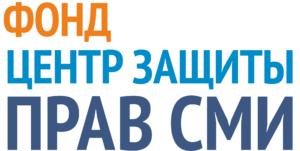Как бывший корпоративный юрист возглавила практически единственную в России организацию, отстаивающую свободу СМИ.
Интервью – часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с порталом «Вакансии для хороших людей».
Вы в правозащитной среде уже 25 лет. К этому были предпосылки?
Нет, про правозащитную деятельность я не думала. Мне всегда нравились и легко давались точные науки, после школы я собиралась быть математиком, но мне показалось, что работать с цифрами всю жизнь скучно, поэтому я выбрала юриспруденцию как самую точную из гуманитарных наук, где можно работать с людьми и быть для них полезной. Я поступила в Воронежский государственный университет и думала, что стану адвокатом.
Какой была ваша первая работа?
После окончания вуза я год работала юристом в конструкторском бюро и занималась, по сути, корпоративным правом. Параллельно я поступила в аспирантуру ИМЭМО РАН. Работа была довольно монотонной и необременительной, поэтому я успевала учиться и даже от скуки переводила Конституцию на английский язык.
Потом я работала юристом в агентстве недвижимости. Мне там совсем не понравилось, потому что хозяин обманывал агентов, которых брал на работу. Выжимал из них все соки во время испытательного срока, а потом отказывал в трудоустройстве и отправлял без оплаты труда. Мне, как юристу, предлагали всё это дело прикрывать. Я отказалась, поэтому ушла буквально через месяц.
Значит, вы ушли заниматься защитой СМИ от такой работы, которая не позволяла чувствовать себя полезной?
Я просто была готова попробовать что-то другое. Мне знакомая сказала, что какая-то московская организация ищет на контракт регионального юриста — так в 1995 году я стала работать в Фонде защиты гласности. На тот момент я ничего не знала ни про свободу слова, ни про средства массовой информации. Медиаправу меня, как и других студентов юрфаков в России, не учили.
Я помогала фонду вести мониторинг нарушений прав журналистов в Центрально-Черноземном регионе и занималась консультациями. Алексей Кириллович Симонов, президент фонда, стоял у истоков защиты гласности и свободы слова в России. Наверное, я не стала бы медиаюристом, если бы не он. Сложная и динамичная тема, интересные люди вокруг — работа оказалась для меня вирусной: невозможно было не поверить в значимость свободы слова, даже если раньше в газетах ты только читал анекдоты на последней полосе.
Фонд тогда развивал региональную сеть сотрудников, однако управлять ею из Москвы вскоре стало довольно сложно. Поэтому возникла идея создать самостоятельные организации в разных регионах России. Так в 1996 году Фонд защиты гласности стал одним из учредителей Центра защиты прав СМИ, который я и возглавила.
И это был настоящий стартап. Вместе с нами возникло еще с десяток аналогичных организаций по всей стране, которые, к сожалению, долго не продержались.
А почему именно вас выбрали? Было голосование?
Формально, конечно, было. Но нас, сотрудников новой организации, было тогда полтора землекопа. Учредители принимали решение исходя из того, кто реально готов это всё на себе дальше везти. Вот Арапова юрист, пусть она и займется! Больше некому было — я и занялась.
Чем занимался центр в первые годы? По каким делам к вам обращались?
В самом начале мы не вели судебных дел: доверие журналистов нужно было заслужить. Мы занимались мониторингом нарушений прав журналистов в нашем регионе, и вся информация стекалась в Фонд защиты гласности. Мы также консультировали журналистов и проводили образовательные семинары, как правило со специалистами Фонда защиты гласности, потому что они были более опытными.
Постепенно к нам стали обращаться за помощью. Первый мой судебный процесс — иск о защите чести и достоинства, предъявленный губернатором Липецкой области к собкору «Новых известий» Валерию Миралевичу. Он уже тогда был очень авторитетным журналистом, и то, что он пригласил меня вести его дело, много для меня значило. Мы хоть и не выиграли, но отлично поработали, продемонстрировав всю нелепость претензий, и подружились.
У центра была большая команда?
Нас было сначала трое: бухгалтер, сотрудник службы мониторинга и я. Я была единственным юристом и обрабатывала вместе с коллегами все кейсы для общероссийского мониторинга нарушений прав журналистов по Центральному Черноземью.
Но потихонечку появлялись судебные процессы — в конце 90-х мы вели около десяти в год. К началу 2000-х процессов стало так много, что я одна уже перестала справляться и в центре появились новые юристы.
Защита чести и достоинства — наиболее распространенные иски, которые предъявляли журналистам?
В то время — действительно самые распространенные.
То есть сценарий такой: честный журналист написал что-то про власть, и на него подали в суд?
Очень по-разному. Журналисты тоже ошибались и сейчас ошибаются. Иногда они не знают, как правильно фиксировать доказательства. Иногда источник информации их подводит. Но бывают и такие ситуации инверсии ответственности, которые вы описываете: добросовестный журналист опубликовал важный материал о злоупотреблениях коррумпированного чиновника, а государство, вместо того чтобы начать проверку коррупционера, призывает к ответу журналиста. И отбиваться в суде приходится именно ему.
Конец 90-х — начало 2000-х — это время претензий преимущественно со стороны власти. А с середины 2000-х заметно стало расти количество исков от предпринимателей, от коммерческих компаний. Развивалось законодательство, люди становились юридически более грамотными.
Мы проводили семинары для судей по российскому медиаправу и по практике Европейского суда, это вызывало живой отклик, они с пониманием и энтузиазмом применяли знания. Чиновники, которые пытались обелить свою репутацию путем иска, далеко не всегда добивались желаемого результата, и именно в силу того, что практика Европейского суда говорит: если ты публичный человек, ты должен терпеливее относиться к критике в свой адрес, потому что в приоритете — всегда общественный интерес.
Судебная практика была по делам о защите чести и достоинства достаточно прогрессивная, мы выигрывали подавляющее большинство дел. Исков от чиновников становилось меньше.
Можно было бы предположить, что в начале 2000-х, наоборот, чиновники имели влияние на судей.
Парадоксально, но не всегда. Хотя в некоторых регионах такая проблема существовала. У нас было большое количество дел по искам от губернатора Курской области Александра Руцкого к местным журналистам.
Так много, что иногда журналисты вешали таблички на двери редакции: «Никого нет, все ушли в суд».
Вот там судьи демонстрировали чудеса изобретательности, когда надо вынести «соломоново решение» — и губернатора не обидеть, и журналиста не сильно наказать.
Из этой целой плеяды дел выделяется иск Руцкого к Виктору Чемодурову, известному в регионе журналисту, собкору «Российской газеты». Чемодурову в руки попала копия документа с собственноручной резолюцией губернатора на докладной записке финансистов областного правительства — они сообщали ему, что из бюджета пропал миллион долларов. Руцкой дал им указание списать пропавшие миллионы на мифический ремонт.
Прямо так: «Ну что мне вас учить, спишите на ремонт магазина «Ветеран», магазина в Мурыновке и дома журналистов».
Копию этого документа с резолюцией губернатора журналист и опубликовал, добавив, что нормальный губернатор должен был потребовать расследования и наказать виновных. А губернатор, который дает такие указания, «является ненормальным». Вот слово «ненормальный» суд и расценил как оскорбительное мнение, взыскав с журналиста 1000 рублей. Но для нас это было вопросом принципа. Мы выиграли дело в Европейском суде по правам человека. Оно было довольно громким — сейчас, мне кажется, уровень влияния чиновников на судей значительно выше.
Как менялась риторика судей?
В 2005 году Верховный суд РФ принял Постановление пленума по делам о диффамации, в котором фактически говорилось о необходимости применять нормы международного права и практику ЕСПЧ при рассмотрении дел, затрагивающих свободу слова. Там же наконец было разъяснение необходимости разграничивать факты и мнения и многое другое, что позволяло эффективнее защищать тех, кого привлекали за высказывания — именно за это мы бились с конца 90-х. До постановления нам приходилось объяснять всё судьям на пальцах, но они нас понимали и в большинстве случаев вполне уверенно применяли прогрессивный подход на практике, довольно часто ссылаясь на практику Европейского суда.
Начиная где-то с 2012-2013 года у России начали портиться отношения с Европой, появилась антизападная риторика. И в этот период мы могли услышать от судьи такую фразу: «А что, мы еще не вышли из Совета Европы? Чего это вы на какое-то европейское право тут ссылаетесь? У нас есть свой Гражданский кодекс». Пришлось начинать наш правовой диалог с нуля.
У вас есть какая-то личная тактика общения с судьей?
Наша задача не установить какой-то особый контакт с судьей, а обеспечить максимально высокий уровень защиты журналиста, блогера, редакции, чтобы правовые аргументы в области свободы слова прозвучали и были учтены судом при вынесении решения. Поэтому мы всегда готовим документы для суда на высоком уровне, наша задача — звучать профессионально и убедительно, даже если судья никогда не рассматривал раньше такие дела, даже если он скептик, даже если он не любит журналистов и блогеров. Мы пишем подробные и мотивированные возражения на иски. Обычно судьи к этому относятся с уважением, видят, что мы работаем профессионально, а не просто пришли флагом помахать.
Кроме Центра защиты прав СМИ, кто ещё в России отстаивает интересы журналистов в суде или решает проблему на системном уровне? Ваше сообщество большое?
К сожалению, сейчас сообщество очень небольшое. В 1996 году центры, аналогичные нашему, появились в Казани, Ростове, Брянске, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Проблема в том, что они протянули очень недолго — чаще по той причине, что люди, которые работали в этих организациях, параллельно работали еще где-то. Как показала практика, совмещать здесь нереально.
В результате лет через пять все региональные организации, кроме нашей, прекратили свое существование. Очень трудно было и с финансированием. Поэтому на этой выжженной поляне мы остались вместе с Фондом защиты гласности, который сейчас несколько утратил силу, но всё еще ведет мониторинг нарушений прав журналистов, вот уже 30 лет.
Иногда дела, связанные с защитой свободы слова, ведут коллеги из «Агоры», «Команды 29», чаще это дела об экстремизме, гостайне, фейк-ньюз — резонансные судебные процессы. Мы же помогаем всем журналистам, кого преследуют в связи с их профессиональной деятельностью, вне зависимости от известности редакции, работаем как скорая помощь, проверяем на правовые риски сложные материалы перед их публикацией, защищаем журналистов как в судах в России, так и в Европейском суде.
Среди наших клиентов и крупные федеральные издания: «Коммерсантъ», «Российская газета», «Новая газета», — и одновременно небольшие районные газеты, и даже деревенские блогеры.
Дела против журналистов в регионах и в Москве отличаются?
Дела о защите чести и достоинства везде примерно одинаковые. Но помимо них есть еще дела, касающиеся права на изображение, дела о вторжении в частную жизнь, распространении персональных данных, о нарушении авторского права, избирательного законодательства, различных формальностей типа возрастной маркировки.
Про суицид писать нельзя, про наркотики нельзя, про детей — жертв преступлений нельзя. И эти бесконечные запреты на разного рода контент, который сейчас бдительно контролирует Роскомнадзор, порождают огромное количество новых рисков и судебных дел против журналистов и редакций.
Больше шансов выиграть в региональном суде, тебя там как минимум выслушают. Некоторые дела — например о блокировках сетевых изданий и сайтов — рассматривает только одна судья в Москве, которая всё разрешает в пользу Роскомнадзора. Она же, например, принимала решение о блокировке «Телеграма».
В суде такие дела – это часто игра в одни ворота. Государство провозгласило: идет борьба за информационную безопасность, и судьи рассматривают себя как государевых слуг, миссия которых — борьба с опасным интернетом. В Уголовный кодекс внесли изменения, которые рассматривают совершение преступления с помощью интернета как отягчающее вину обстоятельство. То есть не только «группой лиц» или «в состоянии алкогольного опьянения», а еще и «в интернете».
Интересно, что и в европейских странах были приняты законы, направленные на борьбу с экстремизмом в онлайн-среде, защитой персональных данных, именно там придумали «право на забвение» и даже злосчастное законодательство о фейк-ньюз, но всё же дьявол в деталях. Там, где есть независимое и беспристрастное правосудие, любое ограничение свободы слова подвергается тщательному судебному контролю. У нас, к сожалению, с этим в стране проблема…
А каким-то образом на это можно повлиять?
Мы реалисты. Понятно, что для изменений в этой сфере требуются глобальные изменения в государственной политике, но это не наша сфера возможностей. Всё, что мы можем сделать, – продолжать качественно выполнять свою работу, заниматься защитой тех, кто распространяет информацию, просвещением в области права на свободу слова, помогать журналистам быть сильнее, увереннее в себе.
Ну и потом, в стране должно быть более качественное юридическое образование, более качественный отбор в судьи. Они должны знать международное право, уметь его применять.
Возможно ли с помощью права повлиять на такие дела, как дело Голунова или Сафронова? Или юристы бессильны там, где чувствуется рука власти?
На самом деле есть много дел, где чувствовалась рука власти. Все приводят в пример дело Ивана Голунова, а я бы сказала, что оно не самое показательное. Я склонна думать, что Ивану Голунову помогло освободиться то, что главные редакторы крупных и уважаемых СМИ добились переговоров с властью.
Вы же понимаете, что, случись подобное с журналистом в условном Запупырске, никаких переговоров на уровне министра не будет и вряд ли будет стоять очередь из адвокатов, желающих вступить в дело, — в этом существенная разница.
Параллельно с делом Ивана Голунова у нас заканчивалось в суде уголовное дело Игоря Рудникова, главного редактора Калининградской газеты «Новые колеса». Там не просто рука власти была — ручища! Потерпевшим был начальник Следственного комитета по Калининградской области генерал Леденев. Рудникова обвиняли в вымогательстве — тоже не связанное с профессиональной деятельностью обвинение, как и наркотики в случае с Голуновым. В таких делах любому журналисту очень тяжело защищаться, потому что в обывательском понимании он никакой не герой, а обычный взяточник или наркоман.
За Игоря Рудникова в Калининграде выходили его коллеги и пара десятков его читателей, но резонанс был несопоставим с делом Ивана Голунова. Год спустя, когда мы защищали в Пскове Светлану Прокопьеву, ситуация уже была иной. Журналисты научились на деле Игоря Рудникова, Ивана Голунова, историка Юрия Дмитриева, что отмалчиваться уже нельзя. И в день вынесения приговора Светлане в Псков из разных регионов и из Москвы приехали поддержать ее не менее сотни журналистов и общественных деятелей.
Потому что этого дела не должно было быть вообще: ни обысков дома у Светланы, ни изъятия оборудования, ни бесконечной траты нервов, ни доказывания очевидного, ни военного гарнизонного суда. Столько публики Псковский областной суд не видел никогда.
Чем закончилось дело Рудникова?
Игорю Рудникову прокурор просил десять лет колонии строгого режима. Но в день объявления приговора он вышел из зала свободным человеком, спустя полтора года в СИЗО. Как обычно бывает, это не был оправдательный приговор, но судья квалифицировала дело иначе, заменила статью на самую мягкую из возможных, где даже нет лишения свободы в качестве санкции, освободила его вообще от наказания и потребовала вернуть ему все имущество, в том числе деньги, которые у него были изъяты во время следствия.
Так что одной солидарностью делу не поможешь — здесь работает совокупность факторов, и я уверена, что качественная защита юриста стоит на первом месте.
Когда мы ведем судебное дело, центр занимается и информационным сопровождением: мы пишем о деле пресс-релизы, напоминаем о нем прессе, публикуем информацию в соцсетях, записываем об этом подкасты. Потому что ни один журналист, оказавшись в такой ситуации, сам не справится, ни организационно, ни эмоционально.
Когда вы лично стали чувствовать динамику притеснения СМИ и журналистов?
В последние 10-15 лет картина стала динамично меняться. Вводятся запреты на освещение разных тем, люди несут ответственность за неуважение к власти и за то, что можно трактовать как фейк-ньюз. Эта атмосфера цензуры вызывает у многих журналистов уже не просто раздражение, но и чувство беспокойства за профессию. Кто-то на это реагирует отказом от журналистики в пользу непыльной работы в пресс-службах, ведь у всех ипотека, семьи, дети. А кто-то, наоборот, создает независимые СМИ и объединяется в расследовательские журналистские проекты, потому что невозможно больше молчать.
Растет количество именно уголовных дел по отношению к журналистам. Это формирует у коллег сдерживающий эффект: легче промолчать, чем потом стать фигурантом уголовного дела. Григорий Пасько — единственный журналист перед Иваном Сафроновым, который был обвинен точно так же в госизмене. Я знаю Григория как очень порядочного человека, его дело буквально рассыпалось, его оправдали один раз, но во второй раз все-таки осудили. Когда он задал вопрос «Почему?» то ли прокурору, то ли эфэсбэшнику, который занимался этим делом, ему ответили: «А для профилактики, чтобы другим неповадно было».
Страшно!
Но вот вам позитивное наблюдение. Не дождавшись от государственных СМИ объективного освещения проблем, люди начинают писать сами. Это может быть деревенский блогер, который работает егерем, но пишет где-нибудь в «Одноклассниках» о незаконной вырубке леса, о своей деревне. Правда, и на таких людей всё чаще подают в суд. Пусть они допускают ошибки, пусть они порой не знают, как лучше выразиться, и мало что знают о правовых рисках, но они делают большое и общественно полезное дело.
Помимо этого, появляется всё больше расследовательских журналистских проектов, которые не конкурируют между собой как в традиционном медиабизнесе, потому что их основная цель — защита общественных интересов. Они выпускают материалы вместе, чтобы власти труднее было расправиться с ними. Это новый уровень российской журналистики, которой мы все можем гордиться.
Что, по-вашему, делает центр крепкой и сильной организацией уже столько лет?
Если мы оказываемся перед выбором — потратить время и ресурсы на аналитическое исследование в области свободы слова или на помощь трем или десяти конкретным журналистам в суде, мы выберем второе.
Безусловно, мы тоже за всё хорошее и против всего плохого в стране. Но просто мы видели глаза журналистов, которых вызвали в суд, которым угрожали, и мы понимаем, что разговоры о десяти новых и плохих законах в стране из серии «Кошмар, нас всех посадят!» им не помогут. Надо идти в суд и защищать этого конкретного журналиста, доказать его право на выражение мнения и распространение информации, помочь ему снова поверить в важность его журналистской работы. А потом уже готовить исследования и доклады.
Как выяснилось за многие годы, этот подход сделал нас сильной и востребованной организацией, потому что почти 25 лет мы даём журналистам ровно то, в чем они нуждаются.
Средства, которые люди жертвуют в центр, — это значимая часть для вашего существования? Вам удается жить на них?
Нет, конечно. Пожертвования можно разделить на две группы: благодарность за нашу работу от представителей медиасообщества и деньги от людей, которым просто небезразлична проблематика свободы слова. В этом году мы собирали деньги на «Планете» для создания нового мобильного приложения, которое объясняет, как безопасно себя вести онлайн и распространять информацию. Мы запустили кампанию в начале марта, этот момент пришелся на объявление пандемии, и людям было откровенно не до благотворительности.
Но мы не отказываемся от этого эксперимента. Нам кажется, что люди должны чувствовать свою сопричастность к защите прав человека. Общество уже не только читает книжки Дарьи Донцовой и смотрит развлекательные шоу, а обращает внимание на пульсирующие общественные проблемы и помогает другим людям эти проблемы решать.
Но эту часть нашего бюджета — пожертвования — через лупу можно рассматривать.
Отдельная и довольно старая уже программа центра — абонентское обслуживание для редакций СМИ. Не всю работу мы делаем pro bono, да, в общем, и не должны. Нам часто задают правовые вопросы из области рекламного законодательства, хозяйственной деятельности редакций. Это несколько за границами нашей основной миссии, не очень про защиту свободы слова, поэтому тратить свои ресурсы, помогая редакциям в этих сферах, мы не обязаны. Но можем, потому что хорошо в этом разбираемся.
Когда редакция СМИ говорит, что готова оплатить нашу работу, мы за это очень благодарны. Деньги за такую работу идут на помощь журналистам, которые пишут на сложные темы и не могут позволить себе услуги профессионального юриста. Эта доля — больше краудфандинга, но и это не те деньги, на которые можно поддерживать организацию.
А остальное — гранты?
Гранты, как у большинства правозащитных организаций в мире. Грантовая поддержка работы НКО из благотворительных источников — бельмо на глазу, которое так мешает нашему государству, — это не фактор зависимости. Принято считать, что мы выступаем некими агентами тех, кто нам дает деньги. Но это грубый перенос стереотипа «кто платит, тот и заказывает музыку». В нашей сфере гранты, напротив, считаются показателями твоей независимости.
Быть в сфере правозащитной деятельности и зависеть финансово от государства просто по определению невозможно: тогда ты не сможешь давать объективную оценку происходящему в стране.
Поэтому чем больше будет разных источников дохода, тем свободнее и более независима организация. Чем больше спонсоров, тем меньше вероятность их влияния на тебя. За 24 года работы ни один грантодатель не диктовал нам условия.
Насколько сильное давление испытывает центр после того, как его признали иностранным агентом?
Это произошло пять лет назад — опять же, государственная политика по отношению к гражданскому обществу изменилась, и основной костяк российских правозащитных организаций был объявлен иностранными агентами. На нас наложено дополнительное бремя отчетности, несмотря на нашу абсолютную прозрачность.
Пять лет назад, конечно, это был стресс для всех. Сейчас, вместе с другими 60 правозащитными организациями, ждем решения Европейского суда по правам человека.
Мы были единственной организацией, за которую вступился губернатор области. Алексей Гордеев открыто заявил, что готов дать показания в суде в нашу защиту. Его позиция, возможно, удержала местных силовиков и псевдоактивистов от каких-то радикальных действий по отношению к нам — например таких, как мы наблюдаем по отношению к Мемориалу.
Журналисты и редакции со всей страны тогда начали акцию а нашу поддержку, ставили на свои сайты баннеры о нас и даже сами сделали специальный сайт за несколько дней, посвященный включению центра в реестр иностранных агентов. Они восприняли атаку на нас как угрозу самим себе.
Наш последний семинар для судей должен был состояться в Челябинске, по приглашению областного суда региона, но они испугались и отменили его после того как нас признали иностранным агентом. То есть ты работаешь, создаешь себе репутацию, а потом на тебя навешивают ярлык. Ярлык этот отнимает у нас время, мы пишем в четыре раза больше отчетности, несмотря на то, что наша документация всегда была доступна властям и безупречна (поэтому часто правозащитные организации не могут понять, о какой еще большей прозрачности может идти речь).
Как вы лично себя ощущаете, работая 24 года в правозащите? Валитесь от усталости или чаще чувствуете эмоциональный подъем?
За 20 лет мир сильно изменился. В каждой правозащитной сфере своя динамика. В выборах всё негативно-динамично меняется. В борьбе против домашнего насилия меняется всё гораздо медленнее, как мне представляется, и там должна быть очень настойчивая юридическая сила, чтобы сдвинуть ситуацию с места хотя бы на чуть-чуть. У нас тоже всё меняется — и весьма динамично. За 10-15 лет все обращения, которые к нам поступали, мы успевали обрабатывать, а помимо этого — создавать семьи и рожать детей. Мы и раньше делали много, но рвать душу, как сейчас, не было необходимости.
Я пять лет не была в полноценном отпуске. В этом году брала один тайм-аут на неделю, чтобы банально выспаться. Возможно я и мрачный трудоголик и мне нравится моя работа, но разумный баланс нужно удерживать, иначе о каком эмоциональном подъеме мы будем говорить.
А почему же мрачный трудоголик тогда?
Да просто так складывается! Мы стараемся адаптироваться к новым запросам и всё увеличивающимся объемам работы, совершенствуем работу нашей юридической службы, ищем новые форматы распространения полезной информации и правовых рекомендаций, чтобы всем успеть помочь.
Мы пытаемся поддержать всех сотрудников центра, которые оказываются на пороге выгорания, и предупредить этот момент. Всё-таки худшее, что может случиться с правозащитником, — это чувство ответственности за всё на свете, которое не дает забыть о работе и на несколько недель уехать, выключив телефон.
Источник: Анна Рыжкова, Агентство социальной информации
Фото: Роман Демьяненко/АСИ