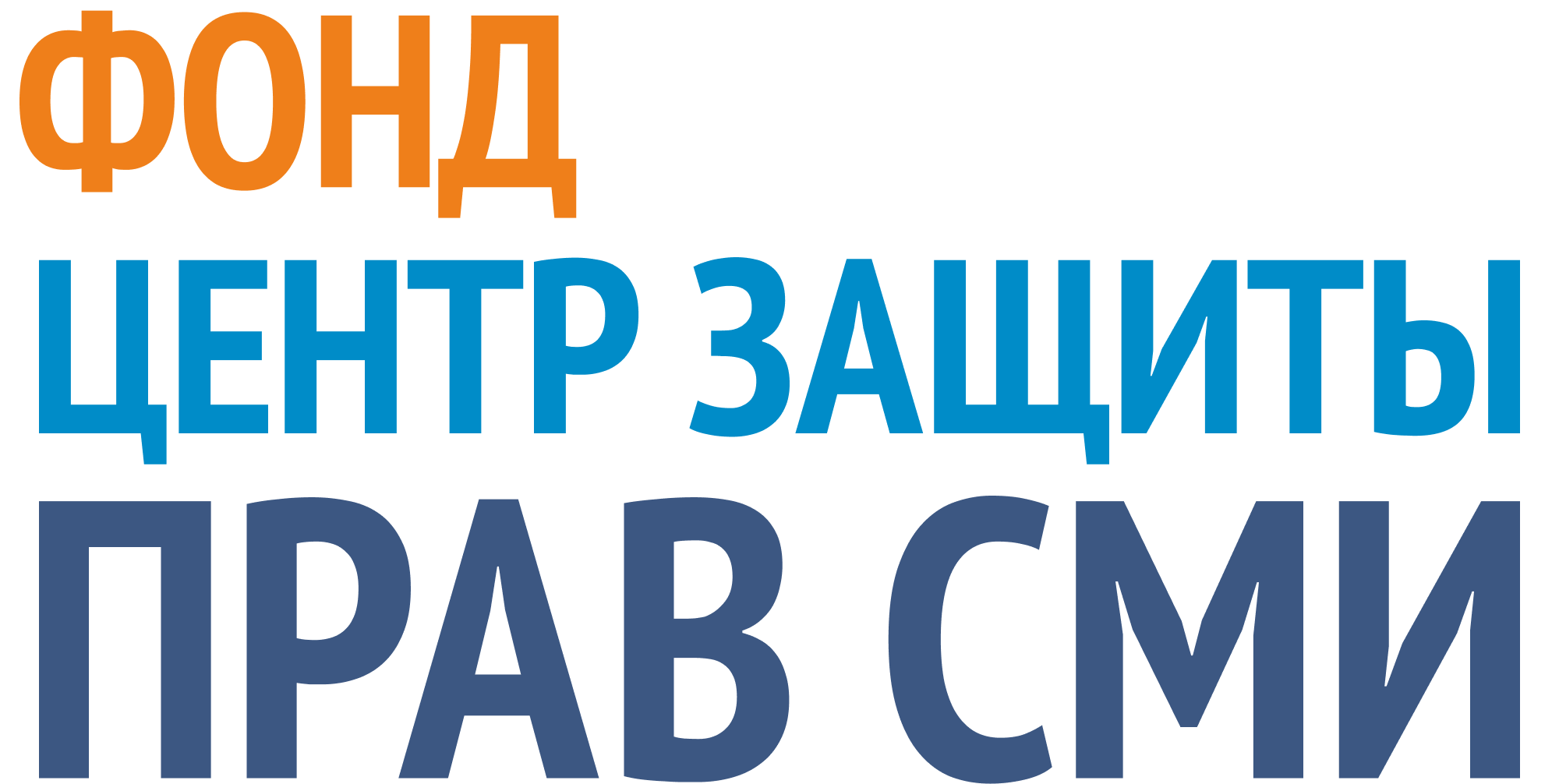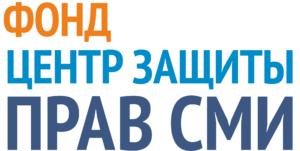— Чтобы свободно, как вы, говорить по-английски, учить его нужно с детства?
— В школе и во время учебы на юрфаке ВГУ я изучала немецкий. Английский решила осваивать на третьем курсе. Пошла на курсы — нам обещали, что мы заговорим за три месяца. Но преподаватель, которая вела нашу группу, на первом же занятии развеяла иллюзии, сказав, что такое невозможно. Три месяца мы отзанимались, а потом она ушла. Я следом, прозанимавшись у нее два года индивидуально. Теперь английский у меня — второй рабочий. Я на нем читаю лекции. Какое-то время я жила в Англии, и у меня была возможность получить хорошую практику. Пригодилось. У нашего Центра много контактов с международными организациями, и общаться на английском приходится ежедневно. Также мы ведем дела в Европейском суде.
— Как вы стали правозащитницей?
— Я окончила школу с золотой медалью, а поступать собиралась на матфак. Мне были ближе логические науки — выбирала между математикой и химией. В десятом классе выиграла областную олимпиаду по химии и могла поступать без экзаменов на любой факультет технологического вуза. Но подумала, что работать только с цифрами и формулами неинтересно. Из гуманитарных наук самой близкой к точным была юриспруденция. Мне всегда нравилось защищать людей. На юрфак я поступила, что называется, своим умом. Родственников-юристов у меня нет. Например, брат, который старше меня на 12 лет, — военный. А мама и отец — технологи.
— В Центр защиты прав СМИ вы попали сразу после университета?
— Нет. Я окончила университет в 1994-м. Год проработала в КБ Ю.-В.ж.д. Там была скукотища. От нечего делать я переводила Конституцию на английский, сдавала экзамены в аспирантуру — словом, развлекалась как могла. Потом я ушла оттуда и месяц проработала в риэлторской компании. Контора была специфическая, отношения строились по формуле «человек человеку волк». Поэтому я удрала оттуда, как только подвернулась подходящая вакансия в Фонде защиты гласности. Я тогда ничего не понимала ни в свободе слова, ни в журналистике. На юрфаке информационному праву не обучают. А у Фонда был проект, по которому в восьми регионах России искали регионального юриста и регионального корреспондента, чтобы фиксировать случаи нарушений прав журналистов и оказывать им помощь на местах.
— Галина Юрьевна, меня всегда поражало, как на самых официозных и чопорных мероприятиях вам удается быть раскованной и живой. На самых унылых протокольных заседаниях вы умудряетесь быть неформальной и женственной. Отсутствие страха перед начальством — приобретенный навык или что-то врожденное?
— Приобретенный навык. Россия на самом деле византийское государство. Чинопреклонение у нас в крови. Ни в школах, ни в университете у нас нет предмета, который развивал бы ораторское искусство, давал навыки риторики. Деловому общению тоже не учат. Но мне помогла приятельница-американка. Она живет в Нью-Йорке, работала в свое время финансистом. Потом ей стало скучно, и она приехала работать в Россию в качестве консультанта для некоммерческих организаций. Здесь мы с ней и познакомились. Она могла общаться с любым человеком, чему ее научили в университете. И она взялась передавать мне свои знания. «Как я позвоню незнакомому человеку? Что ему скажу?» — я боялась всего. Она удивлялась и учила меня элементарным вещам. Благодаря ей я преодолела комплексы. Потом, мне приходится общаться с разными людьми, в том числе из международных организаций. Смотришь, как люди себя ведут. Лишняя чопорность, на самом деле, мешает установлению нормальных деловых контактов. Человека лучше понимают и общаются с ним, если он сам не находится в рамках доклада, который написан на бумажке. К тебе нет доверия, если ты читаешь, трясешься с потными руками, не поднимая глаз. У меня нет боязни перед самыми высокопоставленными чиновниками, потому что я им ничего не должна. И ничего от них не жду.
— Но заискивают-то перед начальниками не потому, что чего-то от них ждут.
— У меня нет такой привычки. Почему многие с трясущимися коленками идут на приемы к какому-нибудь высокопоставленному чиновнику? Я не знаю, может, потому что ощущают его таким огромным, а себя таким ничтожным. Каждый в своей сфере достигает какого-то уровня, и тут вопрос не в должности, а в самоуважении.
— Вы в своей области многого добились — возможно, отсюда уверенность в себе?
— Я отношусь к своим заслугам спокойно, даже с иронией. Хотя понимаю, что как специалист чего-то добилась. Понимаю, что именно в сфере защиты прав журналистов могу продемонстрировать свою значительность, но не для того, чтобы покрасоваться, а чтобы помочь людям узнать что-то, что я уже знаю.
— Расскажите, как попали на учебу в Англию.
— По конкурсной программе Совета Европы в 1999 году. Я туда поехала не потому, что была суперумная, а потому, что вовремя подала заявку и была отобрана. Речь шла о программе для юристов, которые занимаются защитой прав человека. От России поехали учиться двое. Вообще же группа у нас состояла из 18 человек, представляющих 15 стран — преимущественно Восточной Европы. Мы учились в университете Бирмингема, повышали квалификацию в области Европейской Конвенции и практике Европейского суда. С девяти до шести ежедневно у нас были лекционные занятия. После шести мы делали домашние задания, которых задавали очень много. Там не было ни одного русскоязычного преподавателя, все лекции — на английском. Временами я ощущала физическую тяжесть оттого, что шел большой поток информации на чужом языке и вдруг терялся смысл. У нас в группе была судья из Грузии, которая не рассчитала сил, подумав, что пожить за счет Совета Европы в Англии — здорово, но на третий день, рыдая, готова была все бросить и уехать. На курсе у нас было несколько судей, остальные — юристы-правозащитники или адвокаты.
В Англии и Америке статус судьи очень высок, что выражается не столько в уровне зарплаты, сколько в том, как судей уважают в обществе. В США, например, судьи имеют пожизненный высокий общественный статус. Адвокаты и в Англии, и в Америке зарабатывают гораздо больше, чем судьи. Но быть судьей престижнее. Стать им человек может, только будучи очень уважаемым. У нас несколько по-другому.
— Сегодняшняя ваша жизнь — сплошные поездки?
— Да, я езжу довольно часто. Нас ждут в Орле и Иваново. Недавно проводили в Нижнем Новгороде семинар для судей. Сразу после юбилея Центра защиты прав СМИ — он отмечается как раз сегодня — еду в Рязань. В Липецке мы тоже бываем регулярно. Пять-шесть раз в год я езжу за границу в рабочие командировки. У меня есть поездки, которые я никак не могу отменить. В частности, раз или два в год бываю в Лондоне, потому что я член совета директоров международной организации «Артикль 19», которая занимается защитой свободы слова в мире. Соответственно, обязана посещать заседания совета директоров. Довольно часто я веду какие-то международные правовые тренинги. В 2012 году у меня запланировано уже несколько поездок. Еду в Швецию. Там преподаю последние десять лет в международном институте повышения квалификации журналистов. Он находится в Калмаре — на юге Швеции. Они регулярно проводят семинары для журналистов из разных стран, в том числе из стран СНГ. Там я работаю с журналистами на русском языке. В марте я очередной раз туда еду. А в мае отправлюсь к юристам в Монголию.
— Как домочадцы относятся к тому, что вас так часто не бывает дома?
— Я стараюсь не злоупотреблять поездками. От многих отказываюсь, потому что у меня есть десятилетний сын, и ему, и мужу нужно внимание. Я хочу, чтобы мой сын получал его столько, сколько ему требуется. Да, конечно, домохозяйки чаще бывают со своими детьми. Но я стараюсь качественно проводить время с сыном. Например, когда-то окончила музыкалку по классу фортепиано, теперь могу ему помочь в его занятиях музыкой. Сын самостоятельно выбрал скрипку. И теперь я вожу его в музыкальную школу, делаю с ним сольфеджио, подыгрываю в качестве аккомпаниатора.
— У вас остался инструмент?
— Да, но я его отдала крестнице. Мы не можем себе позволить дома стационарного пианино, пришлось купить электронное, которое в любой момент можно задвинуть в угол. Я понимаю, что мужу приходится трудно, когда я уезжаю: на нем сын, кошка. Поэтому не оставляю себе времени в поездках, чтобы расслабиться, культурно провести досуг. У меня все жестко: прилетела, отработала, улетела. Редко бывает возможность пообщаться с коллегами и отдохнуть. Бывает, что я возвращаюсь, наутро везу сына в школу, а днем иду в суд. Много таких поездок, когда огромная разница во времени. Приезжаю — глаза квадратные, голова гудит…
— А мы-то вам завидуем: Галина Юрьевна то в Швейцарии, то в Лондоне.
— На самом деле, трудно быть в постоянных разъездах по миру. Взять тот же Калмар. Чтобы мне прилететь туда и три дня там отработать, приходится пережить три самолета в одну сторону, три — в другую. Взлет, посадка, взлет, посадка, беготня между аэропортами. Бояться самолетов я перестала — у меня нет другого выхода: добраться на поезде, к примеру, до Уганды я не могу.
— Но ведь поездки не только выматывают, но и что-то дают?
— Конечно. Я люблю путешествовать. Хотя у меня почти нет возможности посмотреть на страну, где я веду тренинг, случаются счастливые исключения. Прошлым летом я на четыре дня летала в Бейрут на большую международную конференцию. Три дня была занята с утра до вечера. Но на четвертый нас повезли на экскурсию в город Библос, которому 8 тыс. лет. Недавно я для интереса подсчитала, во скольких странах побывала. Оказалось, их больше 50. И ни в одной стране я не бывала в качестве туриста… Нет, вру. Летом мы всей семьей отдыхали в Греции.
— Как муж относится к вашим поездкам?
— Раньше он по работе часто ездил в США и во Францию. Когда я была беременна, полгода работал во Франции. Он программист. Сейчас мы поменялись ролями.
— Мужчины, как правило, непросто переживают успехи своей супруги в карьере. А вы действительно успешны, востребованы, возглавляете тот же общественный совет при главном управлении МВД по нашей области, у вас непрерывно звонит телефон…
— Думаю, что мужа мой график, конечно, напрягает. Но он уважительно относится к тому, чем я занимаюсь. А я стараюсь не злоупотреблять его терпением и дома «выключаю» начальника, становлюсь обычной женщиной — матерью, женой, хозяйкой.
— Знаю, что вы любите готовить. Есть определенные предпочтения?
— Люблю мексиканскую кухню, итальянскую, обожаю борщ. Стараюсь, чтобы в семье всегда было что поесть. При том, что приходится искать компромиссы. Муж-вегетарианец не ест мясо, но ест рыбу. У сына аллергия на рыбу, но он ест мясо.
— Когда же вы готовите?
— Да чаще всего по ночам.
— А сколько спите?
— Не больше шести часов. У меня куча писанины, и на нее не находится другого времени, кроме ночного. Я же не просто директор, который пришел, кулачком постучал, подписал пару платежек. Я работаю и как юрист. Ежедневно отвечаю на 20-30 писем на обоих языках. Есть куча судебных процессов, которые веду сама.
— Бывает, что вы выдыхаетесь? И что тогда делаете?
— Беру тайм-аут. Я почему в Грецию сорвалась нынешним летом? У нас были тяжелый июль и начало августа — очень много процессов, куча всяких дел. Наступил такой момент переполненности, что я поняла: нужно на время выйти из игры. Забыть про телефон и Интернет. Честно говоря, я редко себе такое позволяю, потому что у нас не настолько большая организация, чтобы уход одного не осложнил жизнь другим.
— Какой вы, кстати, начальник?
— Демократичный. Даже когда надо бы рявкнуть и шмякнуть по столу, я не могу. Если сорвусь и повышу голос, потом страдаю. Меня в офисе никто, кроме младшего юриста, не называет по отчеству. У нас работают 12 человек, и все женщины.
— Наверняка вас приглашали работать в Москву…
— И не раз. Я отказывалась. Не думаю, что переезд из одного города в другой существенно изменит мою жизнь к лучшему. Я жила какое-то время в столице, когда училась в аспирантуре. Тратила безумное количество времени на переезды. Я бы предпочла как-то по-другому проводить время, чем киснуть в пробках. Если мы переедем в Москву, прежде всего пострадает мой ребенок: прервутся его связи с бабушками, родственниками, друзьями. Мы все живем в таком ритме, что видимся только на днях рождения, похоронах и праздниках. Плюс у меня мама в таком возрасте, что я не могу себе позволить ее оставить. С точки зрения профессиональной, при сегодняшних коммуникативных технологиях совершенно неважно, где ты живешь. И мне комфортно находиться там, где я нахожусь.
— Кажется, сейчас у вас должно быть меньше работы по защите журналистов. Они, на мой взгляд, дают все меньше поводов, чтобы их защищали. Да и вообще, на журналистов, по-моему, реже стали обращать внимание. Слово обесценилось…
— Все, напротив, идет только по нарастающей. Несмотря на то что многие прогнулись, что административное давление на редакции выросло, количество процессов не уменьшается. Они тановятся более изощренными и сложными. Мы в среднем ведем 80-100 процессов в год. Бывает, что на одной неделе у нас по нескольку заседаний. Много дел мы ведем дистанционно. На журналистов как подавали в суд, так и подают. В последнее время иски все больше инициируют чиновники и депутаты. Например, в Хакасии мы ведем дело Михаила Афанасьева. Он известный журналист, имеет свой сайт «Новый фокус» и единственный, кто освещал события на Саяно-Шушенской ГЭС, ту техногенную катастрофу без официозного контекста. Его много раз били, у него конфисковывали сайт. И сейчас он судится с депутатом со смешной фамилией Лапаух. Процесс сложный, в том числе и потому, что судьи не могут вынести независимого судебного решения. Вплоть до того, что эксперт-лингвист основывал лингвистическую экспертизу на уставе партии «Единая Россия». А недавно я работала на процессе в Старом Осколе, где иск подал кандидат в депутаты от «Справедливой России». Он баллотируется в областную думу и решил оспаривать все публикации, которые вышли о нем в прошлом году.
— О чем свидетельствует то, что число процессов не уменьшается?
— Наверное, о том, что у власти все больше рычагов. Но наш регион не самый проблемный. Хорошо еще и то, что журналистов у нас давно не били.
— Да, пожалуй, просто бить не за что.
— В других регионах, может, тоже не за что, а бьют. Взять Северный Кавказ. Там в год погибают один-два журналиста. Они совсем по-другому смотрят и на профессию, и на режим. Такое ощущение, что Россия состоит из множества разных стран. А мы, по сути, остались единственной организацией, которая занимается правовой защитой журналистов. Если сравнивать Воронеж с Тольятти или Махачкалой, то у нас все, в общем-то, даже ничего. А если, скажем, с Санкт-Петербургом, то все печально. Есть некоторые тенденции последнего времени: например, что из сферы защиты чести и достоинства претензии переходят в экстремизм. Трудно журналиста привлечь к ответственности за его критическое мнение по иску о защите чести и достоинства. Научились медиа-юристы отбивать такого рода иски. Но власти нашли другой вариант: привлекают журналистов за экстремизм, за разжигание социальной розни. Вот в Мари Эл написали, что местная администрация плохо работает, и журналиста привлекли к ответственности за разжигание социальной розни в адрес социальной группы — «сотрудников местной администрации».
— Чем обычно заканчиваются подобные процессы?
— По-разному. Но в любом случае журналист чувствует, что он не один, что он защищен. По нашей статистике, мы выигрываем 98% всех дел, что ведем. Конечно, мы не можем повлиять на государственную политику. Но пытаемся. В частности, лет семь не мытьем, так катаньем постоянно поднимали вопрос о том, что нужно отменить уголовное преследование журналистов за клевету и оскорбление. В конце года соответствующее решение примет Госдума, законопроект прошел второе чтение.
— Как считаете, могут ли в наши дни судьи сохранять независимость от власти?
— Я смотрю на вещи объективно: все очень разные. Когда ты работаешь в процессе, всегда чувствуешь «позвонили — не позвонили». Были процессы, когда было понятно: что бы мы ни говорили — как об стенку горох. А были, когда мнение судьи менялось после того, как выслушивалась линия защиты. И персоны бывали разные — например, небезызвестный межрайонный прокурор Коломыцев. Полтора года длился процесс — и уж там была масса звонков разных уровней. Его адвокат считал, что я какая-то малолетняя дура. Вообще такова стандартная позиция адвокатов за 50 лет, особенно мужчин и особенно тех, кто пришел в адвокатуру из милиции, прокуратуры. Они видят нас и понимающе улыбаются. А когда мы что-нибудь о Европейской Конвенции по правам человека и праве на свободу слова начинаем говорить, пальцем у виска крутят. Правда, когда потом дела нам проигрывают, удивляются.
Надо сказать, что на судей нередко оказывается административное давление, но не все судьи готовы прогнуться. Есть люди, для которых самое важное — чувство собственного достоинства. Они вполне самодостаточны. А бывают другие, как одна судья из Тулы, которая прятала глаза и говорила, что не может вынести справедливое решение. Потом ситуация изменилась: власть поменялась, и теперь она выглядит комично. Нелепо, к примеру, то, что лингвистическую экспертизу в Туле проводили учитель математики и психолог. Так что у всех есть выбор.
— Какое отношение в суде к журналистам?
— Отношение разное, бывает, и предвзятое. Если публикация острая, автора пытаются принизить, говоря, что статья заказная. И потому важно, чтобы журналисты появлялись в судебном процессе. Для многих судей журналисты как некий фантом. Какая-то богемная прослойка, которая неизвестно что такое. И когда судья видит совершенно нормального человека с гражданской позицией, который добросовестно готовил материал и тому подобное, он избавляется от стереотипа.
— Вы одна из немногих людей, кто уважает журналистов, пытается восстановить их репутацию. А сами журналисты многое сделали, чтобы их не уважали…
— Я к разным журналистам отношусь по-разному. Прекрасно понимаю, как и для чего люди пишут. Но, как мне кажется, если вывалить внутреннюю кухню журналистики в суде, хорошо не будет ни суду, ни вашей профессии. Есть определенный европейский стандарт: даже если судья не прав, не кидайте в него камень, потому что, если вы разуверите общество в том, что все проблемы и конфликты нужно решать в суде, мы вернемся на уровень первобытнообщинного строя. Суд в любом случае лучше, чем самосуд. Если мы разуверим общество, что есть честные журналисты и самих журналистов в том, что есть смысл работать по совести, хуже будет всему обществу. Я считаю, что журналисты, как и судьи, могут быть порядочными людьми. Многие вещи остаются за гранью редакционной политики. У тебя всегда есть возможность не писать о чем-то. Есть возможность не нарушать какие-то нравственные законы, не вторгаться в чужое личное пространство, не писать о том, чего не знаешь. Должна быть ответственность перед людьми, о которых ты пишешь.
Беседовала Светлана Тарасова
Источник: «Воронежский курьер»